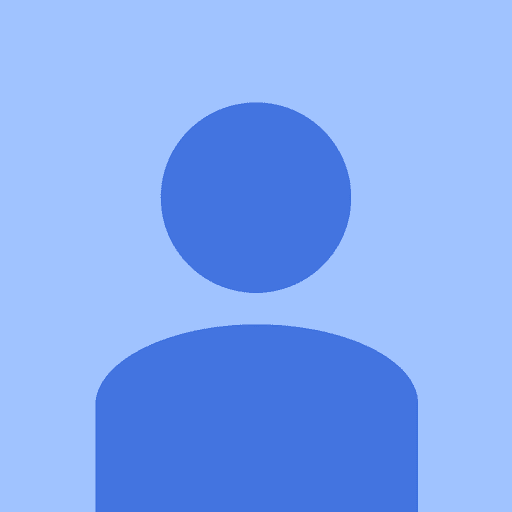Огромное спасибо за редакцию главы vsthem
Синие простыни. Бежевые стены. Зеленая подушка.
…Как выглядит человеческая душа?
Белые поручни. Регулируемая спинка. Большой тугой матрас.
…На что она похожа?
Изумрудное покрывало. Пятнистый линолеум. Лев Алекс из акриловых красок.
…Можно ли ее увидеть? Ощутить?
Больница Целеево. Шесть часов и пятнадцать минут утра. Спрятанное в жалюзи солнце.
Здесь, в этом царстве тишины и покоя, разбавляемом едва слышным мерным гудением какого-то прибора, сполна предстает взгляду людская душа. В живом воплощении. В Дамире.
Беззащитная, что выдают закрытые сиреневые веки с по-детски пушистыми ресницами, безоружная поза – на спине, руки вдоль туловища, тело до плеч прикрыто легкой простынкой, тихое-тихое, будто украденное дыхание.
Молчаливая, что подтверждают цифры на мониторе контролирующего аппарата, демонстрирующие глубокий сон, а также отсутствие особой разговорчивости в принципе.
Нежная, что не укроется от взгляда из-за молочной кожи, худобы рук, шелка ладошек. Маленькие пальчики слабо пожимают простынь – они не способны никому навредить. Но и себя спасти тоже практически не способны.
Бесконечно прекрасная. И тут о красоте спорить незачем, ибо детство – самая большая красота на свете, а уж Дамир со своими глазами цвета неба… со своей смущенной улыбкой и очаровательным румянцем, со своими неумелыми взглядами-просьбами… я видела все чудесное в нем. Видела сполна.
Этим утром, в этой палате детского отделения, с Алексом на стенке и стаканом воды на тумбочке Дамир прямое доказательство, как легко можно навредить душе, как просто сломать ее, как ничего не стоит ее разрушить. Вплоть до основания.
На невинном детском личике большая сине-багровая гематома – от скулы до самого правого уголка губ. Она припухшая, хоть и прикладывали лед, хоть уже и обрабатывали. Боли не избежать.
На левой руке, той самой ладошке, что пожала мою вчерашним утром, согласившись идти куда угодно, эластичный бинт. Широкими плотными кольцами он указывает на растяжение связок. Не катастрофическое, без разрывов, но без обезболивающего не обойтись.
Но самое ярое проявление жестокости по отношению к человеческой душе затаилось выше. На шее Дамира, его тонкой, бледной шейке, где при особо сильном его волнении всегда пульсировала маленькая венка… узкий сине-фиолетовый ободок. Если присмотреться, на коже несложно уловить очертания чего-то вроде малюсеньких звеньев. Изящная цепочка столь оберегаемого Дамиром серебряного крестика – «маминого!» - едва не стоила ему жизни. Кратковременная асфиксия. Отек гортани. Адреналин, чтобы начать дышать. Госпитализация.
Человеческая душа бесценна и уязвима, как ничто иное в этом мире – мой Колокольчик на своей постели подтверждает для меня прописную истину. Второй раз за всю жизнь.
На кремовом кресле в отдалении четырех метров от ребенка, опасаясь потревожить его, не глядя на введенные седативные, я внимательно смотрю на мальчика. На каждый его вдох, каждый выдох, каждую черту лица и то, что с ним стало, каждую клеточку тела, спрятанного простыней… я смотрю, смотрю на Дамира и не могу насмотреться. Одна лишь мысль о том, что обстоятельства могли сложиться иначе, и увидеть его я могла уже в черном лакированном ящике, таком же, как цвет его волос, попросту… раздирает грудь.
Я горю. Я кричу. Я ненавижу.
Но это все внутри.
Снаружи потрясающе спокойная, с ровным дыханием и выдержанным выражением на лице я лишь неподвижно сижу в этом чертовом кресле. Я уже выплакалась. Я уже достаточно возненавидела себя. Я уже просто жду… жду, когда маленький ангел проснется, и я скажу ему то, с чем так боюсь опоздать: «Я люблю тебя. Я твоя мама».
Сколько еще предстоит провести здесь времени, я не знаю. Мне и не дано пока знать, потому что Ксай до сих пор говорит с Анной Игоревной, встретившей нас у сестринского поста, рабочее время Ольгерда, что займется оформлением опекунства, пока не наступило, а Дамир не собирается просыпаться. И это к лучшему. Мне физически нестерпимо представлять, что будет, когда он откроет глаза и сполна все это почувствует – гематому, связки, горло. А от слез, явившихся бы вполне логичным выходом из положения, моему мальчику станет лишь хуже.
Я сижу в отдалении, хотя должна быть так близко, как это возможно. Я обещала ему, что буду рядом – еще вчера, еще утром, когда он так доверчиво приник к моей груди в парке, допив свой ванильный коктейль, когда рассказывал мне о том, что не хочет к тем страшным женщинам, какие видят в нем Цовака. Я погладила его спинку и потрепала волосы прежде, чем сказать эту фразу. Я утешила его и хотела это сделать. Но данное слово я не сдержала.
Этой ночью, пока мы с Эдвардом через тернии к звездам шли к решению усыновить Колокольчика, он снова испытал унижение, страх и боль. Мы ушли, оставив его сердце разбитым, и нашлись те «добрые люди» - о, бог мой, дети! – которые выбрали такое время, чтобы его добить.
Анна Игоревна не знает, что конкретно произошло. Никто не знает, кроме Дамира, потому что мучителей видел лишь он – нянечки, появившиеся позже, застали всех мирно спящими в своих постелях. Но Дамир молчал – сперва потому, что горько плакал, потом, потому что испугался, а в конце – и до сих пор – из-за отека. К тому моменту, как он начал задыхаться, никому уже не было дела до виновных… случай грозил стать летальным.
Анне Игоревне сообщили в пять утра, когда Дамира уже доставили сюда, в клинику, а доктор диагностировал, что жить он будет. Тогда заведующая позвонила нам. Почти сразу же. Она говорит, что не могла поступить иначе. Люди, которым он доверяет и хоть немного, но нужен, лучшее для него лекарство. Хотя бы на время. Она ведь еще не знала, что мы уже решили забрать его… черт подери, с опозданием в один-единственный день!
Дамир поплатился за подарки. Или за то, что провел день вне детского дома. Или потому, что отказался отдать что-то важное для себя этим детям.
Они не хотели убивать его, даже самые отпетые не станут делать этого, Анна убеждена. Они хотели напугать, хотели сделать больно. Не рассчитали силы? Или все же струсили? В любом случае об дверь он ударился сам – убегая. Руку растянул тогда же – падая. И только крестик сам себе затянуть так он не мог.
Я скрещиваю руки на груди. Губу закусываю, потому что не знаю, что с ней делать. Что делать в принципе со всем тем, что рвет изнутри.
Я гляжу на Дамира, и сердце мое замирает. Трепещет. Спотыкается. Я хочу обнять его, поцеловать – и лоб, и этот синяк, и горлышко, и ладошку… я хочу прижать его к себе так сильно, чтобы поверил, что никто и никогда больше и пальцем его не тронет, не то, что руками, я хочу стать для него родной – чтобы все, что потревожит его, он мог разделить со мной, отдать мне. Я заберу у Дамира любую боль – так же, как всегда готова забрать ее у Эдварда. В моей жизни был один мужчина, ради которого свернутые горы казались недостойной мелочью. Теперь их двое. Навсегда.
Анна Игоревна сказала, что он плакал почти всю ночь. Нянечки обнаружили мокрую от слез подушку, а кто-то из детей рядом слышал его всхлипы. Я разбила ему сердце – и он оплакивал его, собирая по маленьким кусочкам и виду не подав, когда мы расставались, что случилась такая трагедия. Мой смелый, бравый, великодушный мой Колокольчик. Ты вынес все это сам. В последний раз.
Я вздыхаю, чуть прикрывая глаза. Я надеюсь, что однажды он сможет меня простить.
За окном догорают цвета рассвета, недавно полноправно взошедшего на небо солнца. Я смотрю в просвет между жалюзи и не могу удержаться от убитой усмешки.
Рассвет – как начало новой жизни? Такая у него трактовка?
Сегодня я была почти с ней согласна, даже твердо согласна.
И как же, черт подери, это несправедливо, что первые солнечные лучи над русским лесом сперва подарили мне надежду…
…И затем они же, кровавыми ошметками застыв на гематоме Дамира, в багровых вплетениях ободка на его шейке, бинте его ладони, надежду эту оборвали.
Тонкие тюлевые шторы. Их дрожь от утреннего ветерка.
Массивные бежевые гардины. Рассвет, который они заключают в изящную картинную рамку.
Его силуэт, так четко вырисовывающийся на фоне неба. Пижамные штаны и обнаженная кожа чуть выше.
Вдох. Выдох. Пальцы на поручне. Гладят его.
Умиротворение. Тепло. Первозданная красота.
Я обнимаю Эдварда со спины, незаметно подобравшись к нему достаточно близко, и Ксай даже не удивляется этому. Его ладони тут же мягко накрывают мои. Он – слишком идеальная моя половинка, чтобы хоть раз не сойтись.
Алексайо теплый, не глядя на утреннюю прохладу улицы, пахнет своим исконным клубнично-простынным ароматом, а волосы его золотятся от солнечных лучей, озаряющих небо, русский лес и наш дом, так уютно спрятавшийся в его тиши.
Я целую его плечо, безмолвно говоря «доброе утро».
Ксай, тихонько усмехнувшись, поворачивает голову в мою сторону. На левой стороне его лица я вижу улыбку.
Мы не разрушаем идиллию этого рассвета. Он полноправно завладевает всем вниманием, временем и пространством, он прокрадывается в этот мир тихими, но такими благословенными шагами. Он дарит нам надежду – на новую и, возможно, еще более счастливую жизнь. Ведь сегодня тот самый день, когда мы официально ее начинаем…
Вчерашней ночью я услышала главные слова, подтверждающие, что повод для ликования очень близко. И каким бы сном все это не казалось, как бы призрачно не выглядело под лучами этого рассвета, я знаю твердо, я знаю точно – все правда. У нас с Эдвардом будет ребенок. Маленький Колокольчик с глазами цвета неба и душой ангелов, населяющих его, однажды назовет меня мамой, а Эдварда, исполнив заветнейшую его мечту, «μπαμπάς Xai».
Легко не будет – никто и не обещал. Если даже отбросить мысль о всех трениях с комиссией по усыновлению, юридическими преградами, вопросами к «потенциальным опекунам два» и все тому подобное, Дамир – малыш, выросший в детском доме и испытавший не так уж мало за свои четыре года. Нам придется заслужить его доверие, помочь поверить в свою любовь, отыскать тот ключик, что может выбрать правильные слова и подход, когда это будет необходимо… стать Его по-настоящему. Настолько же, насколько Нашим хотим сделать его самого.
Тернистый, но такой чудесный путь, такой увлекательный, такой необыкновенный. Я мечтаю ступить на него, а случится это совсем скоро. Я знаю, что сегодня Уникальный скажет Анне Игоревне, что мы готовы назвать Дамира сыном.
- Ты бархатная, Белла, - тихо произносит Эдвард. Его рука, перехватив мою ладонь, поднимает ее выше. Кожа на тыльной стороне получает поцелуй. – И еще совсем теплая… это божественно.
- Все равно ничто не сравнится с тем, чтобы обнимать тебя, Ксай.
Эдвард мелодично посмеивается моему заверению и тому, как крепче я к нему прижимаюсь. На шаг отступает от ограждения балкона, поворачиваясь ко мне. Пальцы его зазывают в полноценные родные объятья. Конечно же, я не медлю.
Устроив на груди, где особенно тепло, и слышно биение его сердца, муж традиционно поглаживает мои волосы, путаясь в прядях. Дыхание его глубокое и ровное, равно как и размеренные движения. Полноценное расслабление прекрасного утра.
- Удивительные вещи происходят, Бельчонок, - несколько задумчиво и все же бархатно произносит Ксай, говоря с самим собой, тихим лесом и со мной одновременно, - я видел множество рассветов из этого окна, но ни один из них не был хоть немного подобен этому.
- Сегодня яркое солнце?
- Невероятно, - Алексайо целует мою макушку, - самое яркое из всех – в моих руках.
- Ты мой греческий льстец…
- Не смущайся, - его пальцы нежно касаются мой порозовевшей щеки, чудесно зная грядущую реакцию на такие слова, - ведь это чистая правда.
- Ты сегодня в романтичном настроении.
- Мне дана возможность сполна оценить свое счастье, Белла. Этим восходом.
- Он действительно очень красив…
- Он красноречив, - шепчет мне Эдвард. Его подбородок на моей макушке, а руки, и согревая, и удерживая рядом, ласковы, - новый день – и новое начало.
Я поднимаю голову, почти сразу же находя мерцающий аметистовый взгляд. В нем такое… благоговение. Я даже не знаю, как точнее описать это чувство. Благодарность в неизмеримом объеме. Убежденность.
- Ты будешь счастлив в этом начале, Ксай, я обещаю.
Я глажу его лицо, а Эдвард наклоняет голову, чтобы быть ближе к моей руке. Едва ощутимая утренняя щетина, капелька румянца, прогоняющая бледность. Не только рассвет символ первозданной красоты сегодня – Ксай тоже. Его волосы, его кожа, тело, эмоции… я не могу перестать любоваться. Неужели вчерашней ночью мы достигли столь особого взаимопонимания? И полного принятия…
- Прежде всего сейчас счастье кое-кого другого. И твое, разумеется.
- Думаю, втроем мы сможем обрести все, что нам нужно, - хихикаю я. Так лестно слышать, как он говорит о Дамире! Не без толики опасения, но нет… страха. Не сейчас. Эдвард ведь полюбит его, правда? Он не сможет его не полюбить…
Багряным кругом солнце почти полностью поднимается из-за горизонта. Лес шумит, радостно встречая его, а облачка на небе становятся полноценно розовыми. Они несут в себе мечты.
- Ты, правда, считаешь, что я его заслуживаю? – негромко зовет Алексайо. Тон у него многозначительный, хоть и ровный, как и прежде.
- Ты понимаешь его, как никто. Кто еще заслуживает больше?
Эдвард легонько целует мою макушку. Шепот его, смешиваясь с ветерком, становится будто бы частью незримой атмосферы.
- Я очень хочу оправдать твои надежды.
- Любовь моя, - крепко, как только могу, обнимаю его я. Приникаю всем телом, стараюсь доказать наше единство – во всех смыслах. – Ты уже их оправдал. С лихвой.
Ксай не отвечает. Только лишь его пальцы в защищающем жесте накрывают мой затылок. Он, как никогда, близко.
Медленно, но верно чарующая глаз картина распространяется все дальше и дальше по небу. Лес наполовину окрашен жизнерадостным алым цветом, плитка под ногами уже не такая холодная – ее согревают шаловливые солнечные зайчики. А биение сердца Эдварда – прямо под моими пальцами в тишине вокруг нас – лучшее звуковое сопровождение. Это утро не могло быть другим.
- На острове порой всходило такое солнце, - Уникальный всматривается в горизонт, взгляд его чуть рассеивается, наполняясь воспоминаниями, - над морем, прямо над пенистыми волнами – с утеса было хорошо видно. Я помню, насколько это выглядело красиво.
- Ты всегда замечал прекрасное, верно?
- Мы смотрели на них вместе с Эмметом, - пожимает плечами Эдвард, - их существование подпитывало нашу веру в чудеса.
Я сострадательно, грустно выдохнув, накрываю пальцами щеку мужчины. Правую.
- Тебе снился Сими сегодня? Из-за наших разговоров?..
- Скорее виделся, - поправляет Эдвард, мягкой улыбкой встретив мой жест, а глазами поблагодарив за него, одаривая нежным взглядом, - думаю, в большей степени это из-за мальчика. Я легко могу представить себя на его месте.
- Вам обоим не грозит больше ничего дурного… и вы оба, я обещаю, будете в безопасности.
Аметисты искрят счастьем.
- Просто мы оба оказались бесконечно счастливыми, чтобы встретить тебя, - впервые за сегодня предпочитает губы, а не лоб. Бархатно их целует, будто давая клятву. И я знаю, какую.
- Люблю тебя, Ксай, - выдыхаю я, не зная, что еще можно сказать, что равноценное можно ответить на такое. Крепко обнимаю мужа.
- Мы справимся, - уверяет он. Твердо. А потом, приобняв меня за талию, разворачивает к дверям балкона. – Я хочу еще немного поспать с тобой. Давай вернемся в постель.
Что же, во-первых, желание Ксая – мой закон, во-вторых – предложение очень заманчивое, а в-третьих – спать с ним одно из любимых моих времяпровождений. Эдвард – находка в этом плане. Так что я не отказываюсь, всем своим видом, наоборот, выражая согласие. Рассвет, уже почти завершившийся, остается за нашими спинами. Тюлевые шторы так и подрагивают на ветерке, гардины так и прячут их под собой, заключая солнце в рамку. А я приникаю к Алексайо, с максимальным уютом устроившись в его объятьях, и закрываю глаза. Счастливая от такого потрясающего утра.
- Сладких снов, мое солнце.
- С тобой других не бывает, - уже немного сонно отзываюсь я. В гарантирующем мне его близость жесте укладываю руку на талию.
…Правда, ровно через два часа я вынуждена руку убрать, дав Ксаю, хоть и без выраженного на то желания, возможность ответить на ранний звонок.
- Твои механики совсем потеряли совесть? – зевнув, жалуюсь я.
Эдвард, качнув головой моему вопросу, хмуро принимает вызов. Глубокая морщинка устраивается между его бровей.
- Да, Анна Игоревна?..
Она рассказала быстро, буквально в двух словах. Но и без этого стало понятно, что мы нужны Дамиру, и выезжать следует немедленно. Благо, в клинику Целеево, какую Эдвард оплачивает для приюта, чтобы им не приходилось везти детей в Москву. Через полчаса мы уже были у входа. И Ксай, крепко сжав мою ладонь, решительно распахнул белую дверь.
Я не знаю, что прямо сейчас говорит ему Анна. Мне пришлось выбрать: узнать закрытую информацию вместе с Алексайо или быть рядом, когда проснется Дамир. Ребенок мне важнее, каких бы то ни было фактов. А Ксай, я надеюсь, расскажет… а если нет, то сам все решит, как нужно, я ему верю.
Я поднимаюсь на ноги, устав быть на расстоянии. Присаживаюсь на небольшое, не совсем удобное кресло-стул у самой постели мальчика.
Мой сын.
Мой маленький любимый сын.
Ну, конечно же! Ну, конечно…
Любовь – это то чувство, что порой проще всего ощутить. Как нечто само собой разумеющееся, она расцветает в сердце по отношению к конкретному человеку, глубоко пуская корни. Я отрицала ее, списывая на нечто вроде привязанности или душевного порыва столь внезапной силы, но факты упрямы. Я вижу Дамира здесь, я знаю, что с ним, и я понимаю, как я на самом деле его люблю. Что чувство это, не дававшее мне забыть его глаза, улыбку, слезы – именно любовь. И такое простое объяснение, как за столь короткое время мне удалось, безусловно, сильно прикипеть к нему сердцем – он мой. С самой первой секунды.
Я легонько, почти не касаясь, поглаживаю его щечку. Теплое покалывание пронизывает пальцы.
Я отвлекаюсь на него, уже почти забыв, каково оно на вкус, это чувство… а Дамир делает чуть более глубокий вдох. И ресницы его, будто нехотя, слабо вздрагивают.
Действительность, вырывая мальчика из безболезненной невесомости, обосновывается на его лице медленно, но верно.
Он хмурится, перво-наперво ощутив комок в горле, как пыталась мне описать последствия его травмы заведующая. Насилу сглатывает, тут же поморщившись, и тихо-тихо, но очень жалобно стонет.
Я придвигаюсь на самый краешек кресла, не переставая гладить его.
Дамир чувствует это. Отвлекается от горла, подмечая мое касание и вместе с ним гематому. Его брови сходятся на переносице, а уголки губ болезненно опускаются. Мальчик скорее машинально, чем осознанно поворачивает голову в мою сторону, влево – надеется избежать неприятного ощущения синяка.
- Солнышко, - сама поморщившись, сострадательно бормочу я. Наклоняюсь к нему поближе, глажу теперь всю левую сторону лица.
Дамир тяжело, будто делает это первый раз в жизни, открывает глаза. Веки его не слушаются, ресницы мешают, как следует, все рассмотреть. В затуманенных, побитых на мелкие осколки колокольчиках одна лишь… усталость. И догорающая надежда хоть так, но избавиться от то тут, то там прорезающейся боли.
Он неосознанно двигает пострадавшей ладошкой, чуть поерзав на своем месте, и, конечно же, равнодушными к этому поврежденные связки не остаются.
Дамир вздрагивает, шире открыв глаза, в попытке понять, откуда теперь показалась боль.
А вместе этого натыкается на меня.
В голубых глазах что-то трескается. На всем лице Дамира теперь истинное мучение.
- Маленький мой, - шепчу я, уже и не зная, могу ли вообще чем-то помочь. Свободной рукой прикасаюсь к бледному лобику, дотрагиваюсь до виска.
Колокольчик не до конца верит, что все происходящее – правда. Туман в его глазах и недоумение в чертах подсказывает мне, что он пытается сопоставить, найти общее, осознать… но упрямые события не желают выстраиваться в верный ряд. Дамир не понимает. А от непонимания, смешанного с болезненными ощущениями, на его глаза наворачиваются слезы.
Ко мне с их появлением возвращается способность говорить. Я понимаю, что мне делать дальше.
- Белла, - отвечая на его немое ошеломление моим присутствием, уверенно, спокойно киваю, - я Белла, верно, и я с тобой, я здесь. Ты в полной безопасности.
Страх царапает колокольчики острыми коготками. Слез в них больше, но и осмысленности тоже больше. Дамир смотрит на меня внимательным, пусть и измученным взглядом. Никому нельзя пожелать увидеть такой взгляд у четырехлетнего ребенка.
- Я тебя не оставлю, - обещаю я, сказав это таким тоном, что сомневаться не приходится, - больше никогда. Я теперь всегда буду рядом.
Мальчик судорожно выдыхает, пытаясь сглотнуть. Морщится. Жмурится. А потом, открыв рот, силится что-то сказать. Ему сухо и больно, а слезы еще и пекутся. У Дамира совсем скорбный вид.
- Не нужно, солнышко, - мягко, но убежденно останавливаю его я, придвинувшись совсем близко, левой рукой накрыв его висок, - я пойму тебя и без слов сейчас, а с ними мы поговорим мы чуть позже. Я, правда, здесь, да. И я не уйду.
Дамир как-то разом сникает, крепко сжав губы. Он опускает голову ниже. Слезы текут неостановимыми прозрачными дорожками. В глазах его теперь чистая, ничем не разбавленная боль. Только уже далеко не физическая.
Это ощущение подвластно только взрослому, отчаявшемуся человеку. Его жизнь – сплошная черная полоса, и даже если чудо вдруг случится, и появится просвет, блик белого… это лишь мираж. Он потерян для себя самого. Он себе же самому не верит и не дает ни единой надежды на что-то лучшее, что-то приятное. Он приговорен.
Дамир смотрит на меня, а я не узнаю в нем мальчика, от которого ушла вчерашним днем. В колокольчиках все почти… мертво.
- Я знаю, что случилось, - доверительным шепотом, доказывающим, что все понимаю, сообщаю ему я. Не отпускаю детского взгляда и даю понять, что никогда не отпущу больше. Я остаюсь, - и я знаю, что тебе больно, я обещаю помочь с этим, Дамир.
Искра страха, живого испуга пробивается в его зрачках. Я задеваю выстроенную им стену – мальчик всхлипывает. Но искра эта тут же гаснет, окутавшись новыми, горькими и обреченными слезами.
Ну, вот и все. Точка невозврата.
- Я люблю тебя, - откровенно признаюсь ребенку я, уже не опасаясь ни силы каких-то слов, ни их несвоевременности. Он заслужил знать правду. Она с самого начала такова и теперь нужнее ему любых других обещаний. – Очень сильно тебя люблю, Дамир.
Сперва он смотрит на меня так, будто ослышался. Я задеваю эту чертову стену второй раз.
Потом, видя, что не отнекиваюсь и не прячу глаз, Дамир супится, почти поверив.
Но в конце, когда почти позволяет себе хотя бы рассмотреть такой вариант… все снова становится на свои места. Он совсем не по-детски, слабо и вымученно… усмехается. Вздрагивают уголки губ, и что-то тяжелое, очень горькое проскальзывает во взгляде.
Дамир закрывает потухшие глаза, уткнувшись щекой в мою руку, так и лежащую у левой стороны его лица. Безмолвный, как никогда, будто прощаясь, он просто плачет...
То же хочу сделать я сама. Но не посмею.
Вместо этого целую детский лоб и черные волосы. Глажу спинку моего мальчика, повыше подтянув тонкое одеяло. Нажимаю на кнопку вызова медсестры у тумбочки… а затем обнимаю ребенка. Даю, как следует, себя почувствовать, ощущая, как дрожит его тело.
Я не отступлюсь, Дамир.
Я не откажусь от тебя, даже если ты сам уже от себя отказался.
- Люблю, - твердо повторяю Колокольчику на ушко я.
Порой молчание – это союзник. И тишина, повисающая вокруг, вовсе не давящая, скорее наоборот – в ней концентрируются самые глубокие, самые потаенные мысли, какие редко приходят в повседневном общении.
Находиться вместе без единого слова – сложно. Однако сложность оправдывает себя, если молчание создает комфорт. Или если оно вынужденно необходимо для блага дорогого тебе человека.
Дамир, разумеется, сможет разговаривать. Спадет отек, горло перестанет так неистово болеть, и после пары реабилитационных занятий все вернется на свои места – голос его ни на тон не изменится, как обещает доктор.
Но не сегодня и даже не завтра. Пока нет.
Его голосовым связкам нужен покой, как и ему самому – полноценный отдых. У Дамира постельный режим и удобная, на удивление уютная постель, широкая, с хрустящими простынками. В отделении, где был Ксай, все немного другое. Для детей здесь особые условия, чтобы как можно полнее их расслабить. Или хотя бы уговорить лежать дольше, чем два часа в течение дня.
Впрочем, с этим у Колокольчика точно нет проблем. Как послушный, тихий ребенок, он, скромно устроившись на меньшей части подушки, не проявляет и толики активности. Изредка чуть поворачивает голову, чтобы быть поближе к моим пальцам – и на этом все.
Я, полулежа уместившись на его постели, глажу ребенка. Его волосы, затылок, лицо. Его плечи, спину, руки. Даже его бедра и грудь, где от моих прикосновений быстро-быстро бьется сердце. Но чем дольше они длятся, тем легче он реагирует, тем спокойнее. Постепенно пульс даже возвращается в прежнюю колею.
Доктор, улыбчивый мужчина лет тридцати, с добрыми глазами и забавными усами, что делало его немного похожим на Спортакуса, обезболил ладошку Колокольчика, позволил ему легче переживать свое нынешнее состояние. Это свело на нет какую-то часть его слез.
Окончательно же малыш успокоился только в коконе спасительной тишины, что мы оба так пестуем в этой палате.
Сперва я говорила с ним. И о том, как много для меня значит, и о том, что совсем скоро все это закончится и никогда больше не повторится, и даже на отвлеченные темы, чтобы просто развлечь его. Но ничего не помогло так, как наше молчание.
Дамир, тихонько лежащий на своей подушке, смотрит либо на обстановку комнаты, либо на уже выключенный прибор у своей постели. Но, как правило, каждый раз, когда я глажу его, смотрит он на меня.
В глазах Колокольчика была и есть усталость. Его слезы высыхают, оставляя после себя маленькие горстки соленого пепла в зрачках, покрасневшие глаза начинают закрываться. Дамир расположился на постели так, что он в полной моей доступности и одновременно на некотором небольшом расстоянии – нечто вроде ограничительной дистанции. Я пробовала сдвинуть эту границу, но малыш все равно отодвигался чуть назад – у него бы просто кончилась постель. И я приняла это маленькое его желание – в конце концов, ничего больше ребенок не просил.
Я касаюсь его – и он не против. Ровно, глубоко дыша, он просто… впитывает в себя эти поглаживания. Не как что-то само собой разумеющееся, не как приятные мелочи… он проникается моими прикосновениями, будто прежде никто и никогда его не гладил. И даже наш вчерашний день на скамейке – мираж.
Обреченности в нем уже мало, скорее смирение. Он не имеет возражений, что пока я здесь, но понимает, что вскоре могу уйти – и принимает это. Если я с ним – то временно. Если я говорю ему что-то основополагающее – я могу передумать.
Дамир ничего не принимает и не слышит сейчас, как непреложную истину, для него величайшая и нерешаемая, к сожалению, задача – понять, что мои слова сказаны не просто так, а имеют значительный вес и подкреплены чувством, что не загаснет.
Здесь, на этой постели, видя его вот таким – бледная кожа и приглаженные волосы, глаза, потерянные и грустные, само выражение лица с хмурыми бровями, скованная поза – мне начинает казаться, что случилось непоправимое: Дамир сломался. То, что произошло вчера, сломало его. И если это не наш столь скорый отъезд после такого дня или же почти асфиксия, то, может, сказанное теми детьми? Или причиненная ими физическая боль? Или все вместе?..
Я очень боюсь за него. За его маленькую, нежную душу, его сознание, невинное и бесконечно прекрасное. За его детство, которое утекает сквозь пальцы быстрее, чем мы успеваем реагировать. Никогда Дамир не смотрел на меня так, как по пробуждению сегодня. И я очень надеюсь, что никогда больше и не посмотрит – от такого его взгляда можно поседеть.
…Мою руку обхватывают маленькие пальчики. Я улыбкой отвечаю Колокольчику на его несмелый жест. Он вздыхает. Чуть поежившись, придвигается на постели ко мне. Разрывает эту ограничительную линию.
Я с готовностью принимаю ребенка в объятья. Правой рукой, отданной ему, приметив, что мальчик не против, притягиваю ближе, а левой обнимаю, согревая. Поправляю простынь, подушку. Целую его макушку.
Дамир судорожно выдыхает, но молчит. Я с ужасом понимаю, что он ждет, отстраню я его или нет. Даже не думаю.
Принимает. Закрывает глаза, лбом приникнув к моей ключице.
Молчит и тихонько дышит. Все более мерно…
От мысли, что пока еще не отказывается от моих объятий, мне легче. Когда подмерзает или хочет поспать – обнимает. Значит, не все потеряно? Я еще вхожу в круг его доверия?
Я с нежностью приглаживаю его волосы, мучительно борясь с мыслью, что так теперь будет всегда – без слов, без веры, без надежды. Дамир теряет ее за эти сутки, и я уповаю, что не навсегда… я должна ему вернуть хотя бы ее отголосок. Без надежды жить невозможно.
…Минут через пятнадцать малыш уже крепко спит. Это несложно определить по его расслабившемуся телу и спокойным вдохам-выдохам, чье количество совпадает.
Одной хрупкой душе стало легче.
А моя вторая?..
Нужно найти Ксая.
В небольшом прямоугольнике света из окна, в окружении синих стен и белого линолеума пола он сидит на изумрудном диванчике ожидания, кожаном и довольно массивном.
На лице его глубокая задумчивость, синеватыми кругами осевшая у глаз и испещрившая бесчисленными морщинками бледный лоб. Левый уголок губ скорбно опущен.
Эдвард бесконечно одинок в эту секунду в столь тихом и пустом коридоре. Целиком и полностью в своих мыслях, он растерян. И, разумеется, уязвим.
Я тихонько прикрываю дверь в палату Дамира.
От Алексайо это, конечно же, не укрывается, но глаза он на меня поднимает как-то нехотя и медленно. Без особого интереса следит, как подхожу к нему, как присаживаюсь рядом. И лишь когда своей ладонью мягко накрываю сжавшие друг друга в замок его руки, в аметистах проскальзывает нотка теплого облегчения.
- Ты выглядишь немного потерянным, любовь моя.
Эдвард поворачивает голову в мою сторону.
- Отчасти так оно и есть.
- Я понимаю, Ксай…
Мужчина безрадостно усмехается. Нежно касается моих волос.
- Как он?
- Пока заснул. Во сне не больно.
- А морально?
- Не лучшим образом.
Алексайо тяжело вздыхает. Руки его больше не в замке, они отпускают друг друга. Левая пожимает мою ладонь, а правая обвивает мою талию. Я рядом с Эдвардом, а он – рядом со мной. Мы вместе, и это придает сил, какие в такие моменты просто необходимы.
- Анна говорит, что, скорее всего, имела место психологическая травма.
Как ни горько, но мне кажется, что она права. Я безмолвно киваю мужу.
- Это сложнее. Мое присутствие может усугубить его состояние.
- Ты поэтому не заходишь? – слегка поежившись, потираю его плечо я, приникнув поближе. Мы не виделись около двух часов, и я ожидаемо соскучилась. Эдвард – неотделимая часть меня, часть моей души и моего сознания. Я целая и готова к обороне лишь в том случае, если он рядом. Такая зависимость вряд ли является чем-то здоровым, но это неизменно. По крайней мере, в ближайшее время. Случившееся с Дамиром… основательно все подкосило.
Молчание затягивается, будто отвечать Ксаю неловко.
Он просто обнимает меня, как и множество минут прежде, смотрит в одну точку поверх моей головы. Хмуро смотрит. Весь он сегодня производит впечатление чересчур задумчивого, скорбного человека. У него черные джинсы, первые попавшиеся на глаза в шкафу, иссиня-черная кофта точь-в-точь под оттенок ботинок. Крохотная цепочка с серебряным бельчонком, которую он купил во Флоренции, делает образ еще мрачнее.
- Я привез.
Баритон выдает это таким тоном, будто от него все сразу же становится на свои места. И этот ответ должен объяснить мне каждую мелочь.
- Кого?..
- Дамира, - на имени ребенка мой муж морщится, - я привез его в приют раньше назначенного времени.
Он так горько хмыкает, что я давлюсь этим звуком, проскочившим в пространство. Пальцы сами собой крепче пожимают его ладонь.
- Мы оба привезли.
- Ты просто мне не возразила. Я принял это решение.
- Верно, не возразила. Поэтому и виновата.
- Изабелла, - четко сделав акцент на моем полном имени, Эдвард говорит как-то строже и даже на грамм грубее. В аметистах тлеет пепел, - Дамир пострадал, и все, что с ним произошло, на моей совести. Я не знаю, как теперь смотреть ему в глаза.
А вот это уже признание…
- Думаешь, если бы мы привезли его на час позже, многое бы изменилось? Анна же сказала, что все произошло ночью…
- Мы не знаем, что бы было, - не соглашается Ксай, - порой хватает и минуты, дабы изменить судьбу.
- Ты ведь знаешь, что от нее не убежать, правда? – хмурюсь я.
- Она не может так повторяться, Белла. Это уже за гранью.
Я легонько поглаживаю его правую щеку. Эдвард определяет мою задумку по траектории движения, но не противится, по крайней мере, активно. Лишь отводит глаза, демонстрируя, что такого моего отношения не достоин. Мы ходим кругами.
- μπαμπάς Xai.
Мужчина даже вздрагивает, когда я говорю это. Добрый знак.
Аметистовый взгляд возвращается ко мне, и мрачный, и недоуменный, и… тронутый. В нем теплится сила, что пробуждается, когда я упоминаю имя мужа в одном контексте со словом «отец».
- μπαμπάς Xai, - ненавязчиво повторяю тише прежнего я, задержавшись пальцами у его скулы, - произошедшего мы не изменим, и ты это знаешь. Мне тоже больно, что Дамир здесь, но это факт. Ему нужен защитник, понимающий человек рядом, ему нужна любовь и вера, что его больше не оставят – такой у него сейчас нет. И если мы с тобой даем согласие усыновить его… мысли о том, чья это вина и чья судьба, должны отойти на второй план.
- Мое согласие неизменно, Бельчонок.
- Я знаю, - убежденно киваю ему я, погладив напряженную ладонь с вздувшимися руслами синих вен, - но я бы хотела, чтобы и Дамир это знал. У вас был контакт вчера, вы нашли общий язык.
- Пока я это не перечеркнул, - без лишних эмоций напоминает Эдвард. Констатирует.
Я приникаю к плечу Ксая. Устало и одновременно с удовольствием опираюсь на него, снизу вверх глядя в любимые глаза. Печаль и удрученность из них мне хочется выгнать в первую очередь.
- Знаешь, он так смотрел на меня сейчас… он сначала испугался, потом не поверил, потом снова начал опасаться… но самое страшное, Уникальный, он уже не верит во что-то хорошее для себя. Он отчаялся, и я очень боюсь, - закусываю губу я, потому что произнести это еще сложнее, чем признать, если вдруг придется, - я боюсь, что он сломался.
Мужчина крепко целует мой лоб. Пальцы его запутываются в моих волосах, утешающе и сожалеюще потирая спину. Алексайо умеет сострадать, вся его душа, все его сердцем пропитано этим, все его естество. И сочувствие, такое искреннее, невозможно не заметить. Я уповаю, что для Дамира тоже.
- Это очередные доводы…
Не даю ему закончить. Даже не думаю.
- …В пользу того, как ты ему нужен сейчас. Как тот, кто понимает больше всех.
Эдвард начинает догадываться, о чем я. Смотрит на меня внимательнее.
- Ваша схожесть на самом деле куда глубже, чем кажется. И похожий на твой поворот его судьбы – неспроста. Ты это пережил.
Наши ладони с кольцами переплетаются как-то сами собой. И коридорная тишина уже не давит так сильно. Я говорю от сердца, и я знаю, что Ксай понимает это. Никто, кроме него, в принципе не понимает меня так полно и глубоко. С самого первого дня.
- Я бы очень хотел быть тем, кого он заслуживает, - тихо признается Эдвард.
- Ты здесь, - аккуратно прикасаюсь к его губам, - это уже очень много.
Мужчина медленно кивает, ненадолго задумываясь. А затем на мгновенье отпускает меня, запустив руку в карман. В момент, когда его ладонь возвращается в поле моего зрения, на ней тот самый чертовски знакомый нательный крестик. Разорванная серебряная цепочка тонкими звеньями свисает вниз.
Лучший хоррор.
- Тебе его вернули?..
- Он всегда ко мне возвращается, - хмуро бормочет Ксай. Пальцы его с такой силой прижимают звенья, что вот-вот сотрут в порошок.
Я храбро смотрю на необыкновенное украшение. Созданное, чтобы хранить, а примененное – дабы убить.
- Я не хочу, чтобы он надевал его опять…
Аметисты подергиваются синевато-сизым пламенем. Однозначным.
- Он никогда его не наденет, - клянется мне баритон. Грубо.
Муж возвращает мне поцелуй, чувством в нем убедив, что это не шутка. Мы попрощались с крестом.
- Он признал тебя?
Я с болью припоминаю исказившееся личико мальчика.
- Он очень… старался.
- Нам придется перебороть это вместе, - решительно и в то же время с осознанием тонкости процесса признает Уникальный, пряча крест обратно в карман, - со временем ему станет легче.
- Надеюсь…
У плеча Эдварда, согревшись в его руках и одновременно имея возможность поглаживать его самого, унимая волнение, я несколько минут молча думаю о будущем. Пусть не таком четком, пусть не совсем светлом, но все же будущем. Потому что, как подметил Ксай, отступать мы не будем. Дамир наш ребенок.
- Анна Игоревна сказала, почему все это… случилось с ним? – не удержавшись, задаю вопрос я.
- Нет, - муж виновато целует мой висок, - ей это неизвестно. Правда, у одной из воспитательниц есть версия о том, кто мог ему навредить.
- Ты так говоришь, будто вопреки словам Анны знаешь ответ.
- Белла, я боюсь, что это простая зависть, - сдержав тон, хоть это и стоит ему усилий, качает головой Ксай. Серьезно. – Я приезжаю в приют средь бела для и забираю одного ребенка. На день.
- Но разве же стоит зависть… крови? – ужас во мне переплетается со стойким желанием наказать мучителей Дамира, кем бы они ни были, с какими бы мотивами и какого бы возраста. Каждый должен получать по заслугам.
- Это сложно понять, ни разу не побывав внутри.
- Ты их снова защищаешь?..
Эдвард смотрит мне прямо в глаза. Надеясь донести все, что вкладывает в свои слова, он, призывая слушать внимательно, поглаживает мои волосы.
- Белла, они дети, как бы там не было. Их чувства и их поступки между собой очень тесно связаны, что, разумеется, не оправдывает сделанного ими, но способно его объяснить. Детский дом – это очень тяжелое место. И в плане эмоций, и в плане принятых решений.
- У меня перед глазами Дамир, Ксай. С синим ободком на шее. Я не смогу их ни понять, ни тем более простить. Ни при каких условиях.
- Это здоровая реакция твоего материнского инстинкта, - не изменившись в лице, кивает мне мужчина. Тепло целует в лоб. – Все правильно. Так и должно быть.
- Не глядя на смягчающие обстоятельства, я все же надеюсь, что их найдут и накажут, - бормочу я, уткнувшись в его шею. Немного краснею, толком не понимая, от злобы или смущения.
- Тогда лучше поручить это воспитателям. Я вряд ли смогу.
Скрепя сердце, мне все же требуется это принять. Я знаю Ксая не хуже его самого.
- Тогда сконцентрируйся на Дамире, пожалуйста, - перебарывая в себе желание развивать эту тему и вызвать в нем хотя бы отголосок гнева к чертовым мучителям малыша, прошу я. – Когда Ольгерд приедет?
Эдвард благодарно пожимает мою ладонь, не возвращаясь к предыдущей теме.
- К одиннадцати. Он уже соберет кое-какие бумаги.
- Нам надо сказать Анне…
- Она собиралась в приют, выслушать воспитателей и спросить пару детей об этой ночи. Скажем, как только вернется.
- Конечно…
Эдвард все так же рядом со мной, чуть менее задумчивый и чуть более расслабленный. От моих слов ему легче. А мне куда легче от его. Жгучее чувство благодарности, медленно поднимающееся из глубин груди, постепенно заливает собой основное пространство… и особенно область у сердца.
Я поворачиваюсь к мужу, легонько поцеловав его плечо. А потом шею. А потом щеку.
Ксай чуточку щурится, глянув на меня и нежно, и с налетом вопроса.
- Спасибо.
Аметисты распахиваются.
- За что?
- За то, что ты выбрал его. За то, что мы здесь и делаем это. За то, что он – наш, - почти на одном дыхании объясняю я. И совершенно некстати ощущаю немного соленой влаги. Она жжется.
- Душа моя, - наклоняясь совсем близко, Алексайо по-особенному трогательно обращается ко мне. Глаза его мерцают чем-то светлым и одновременно воздушным. Пленительным до дрожи. – Это тебе спасибо. Мы стали семьей благодаря тебе. И теперь благодаря тебе же в нашей жизни появился этот мальчик. Появился и остался навсегда.
- Я так люблю его… его и тебя, вас обоих, Ксай, так сильно… я не представляю, что мне с этим делать.
- Быть вместе, - мудро находит решение мой Хамелеон. А потом целомудренно меня целует, подтверждая, что действительно так думает.
Источник: http://robsten.ru/forum/67-2056-1